Времена-то какие?.. В войну то было, в ту самую. Там же, неподалёку от посёлка, у деревеньки той, детский дом обустроили, вот нас и привезли туда — не сразу, помыкались мы сначала, полстраны объехали, это потом уже…
Мы же с под Харькова, батька ушёл воевать, как началось, а нас с мамкой отправил в Россию, да потерялись мы с ней в дороге, вот меня и определили сначала во временный приют, а потом и в детдом — один да другой, да третий… счёту им не было. А как сюда привезли, так и осталась я, никуда больше уже не забирали, сказали, будет тут тебе дом родной, обживайся, свыкайся, а сбегать не вздумай, иначе попадёт. А куда тут сбегать — места насквозь чужие, лес кругом, сосняки, у нас такого сроду не было.
Привезли нас в конце весны, определили в школу — самую обычную, деревенскую, бывший клуб. А чтобы дойти туда — через всю деревню надо пройти. Идёшь — тут хохлы, тут кацапы, друг на друга злобятся, друг над другом потешаются, что ребятня, что взрослые. Это у них ещё с царских времён пошло: хохлов привезли и землю дали, даже лошадь выделили на каждые три двора, а местным — шиш с маслом, вот и решили местные, что обкрадывают их пришлые. Давно уже царя не было, да земли на всех хватало, а всё равно гавкались промеж собой, так уж привыкли. Особенно житья друг другу не давали дед с бабкой, что в крайних избах через дорогу обитали — дня вытерпеть не могли, чтобы не поорать о том, что хохлы на всё готовенькое прибыли, белоручки чубатые, а в ответ — кацапы, мол, и вовсе лебедой перебивались, пока их, криворуких, не научили правильно картоху ростить. Мы деда того Злыднем звали, а бабку — Злюкой, а как по-настоящему — и не спрашивали, да и не ответили бы они, бабка только ворчала, что все занавески у неё покрадут детдомовские, понавезли голодранцев, а дед и вовсе, ежели что попросишь, отмахивался — не розумию, мол, вашей мовы. Занавески-то у Злюки и правда были красивые, ни у кого таких не было — с вышивкой по краю, с лучиками солнца и нездешним оргаментом; тогда и простая холстина была вещью дорогой, а тут — занавески, богатство несусветное…
В детдоме-то мне поначалу несладко было — с Украины ребятни много привезли, да только они меня, казачку, за свою не считали, кацапкой дразнили, а которые из тутошних — те чубатой называли. Обидно было — не высказать. У нас-то сроду такого не было, все дружно промеж себя жили, а тут… Видать, с голода и нищеты в головах разное завелось, иначе откуда же…
Ну вот, мы всё лето в школу ходили, пропущенное нагоняли, я-то всё больше одна ходила, никто со мной дружить не хотел, всем чужая. Выйду за околицу ещё до побудки, нарву себе «калачиков» — это травка такая, будто калачи крошечные, сладенькие, сытные, там их видимо невидимо кругом, главное лакомство — и вспоминаю, как с мамкой и батькой жилось. А то и с собой в школу прихватывала «калачиков» тех — кормили-то два раза в день: с утра каши черпачок и тонюсенький ломтик хлеба, да и того не доставалось, отымали его у меня; а вся главная еда — вечером, а до него ещё дожить надо, дотерпеть, что не всем удавалось — и в обморок падали, бывало. Однажды нарвала я целый подол «калачиков», вернулась в спальню, а там директриса ждёт — письмо им пришло, про батьку моего письмо, что, мол, предатель он и прислужник фашистов, лютует, мол, на оккупированной территории. И стали меня бить — и директриса била, и в спальне били, и на кацапьей стороне улицы ребятня взъярилась — и откуда только узнали. Ничего не помню, помню только, что очнулась, а на меня Злюка смотрит, та самая, что хохлов ненавидела. Испугалась я, а она как прикрикнет, я и обмерла от страха. А она с меня кровь и зелень от «калачиков» смывает и к синякам холодную свинчатку прикладывает, да ворчит, что понаехало хохлов на её голову, дела ей больше нет, чем пользовать болящих бродяжек. Потом я как-то не заметила, а уж за столом оказалась, а там — сливок целая тарелка, хлеба кусок, не пшеничного, конечно, отрубного, горького, но такого душистого и вкусного, что я не сдержалась и всё слопала, не дожидаясь приглашения.
Потом мы со Злюкой во двор вышли — не засиживаться же, пора и домой, хотя и страшновато было возвращаться. Глянула она — а на мне юбчонка казённая вся лохмотьями. Сорочка-то более-менее целая, только карман оторвали, а от юбки ничего не осталось, как в такой идти. Злыдня мне говорит: «Посиди пока, сейчас…» — и в дом ушла. Что-то там она делала, чем-то скрипела и стучала, чертыхалась, — и вернулась со знакомой тряпицей, на занавески похожей. Смотрю — а на окне и вправду пусто стало, только верёвочка висит. Взяла я те бывшие занавески — а это юбка, да богатая, парадная, после моей дерюжки совсем другое дело. Вот тут я и заплакала, просто рыднем зарыдала, уже и забыла, что такое одёжка красивая и какими добрыми люди бывают. Тут и Злыдня начала тереть уголком платка глаза, а как увидела, что новая юбчонка-то с меня, худющей, сваливается, совсем расклеилась, обняла и ничего сказать не может, только плачет.
Ну, успокоились мы, конечно, стали думать, что с юбкой моей делать, а тут у калитки кашляет кто-то — да не кто-то, оказалось, а Злыдень сам! Не успела я испужаться, как он протягивает кусок сыромяти и показывает, что надо петельки сделать в пояске у юбки и продеть белой стороной сыромяти наверх — так красивее, с изнанки-то поясок неказист. Злюка-то ему что-то буркнула — поблагодарила, что ли, — а он ей в ответ только своё «не розумию» и сказал, да и через улицу зашагал, будто случайно тут оказался.
До детдома меня Злюка сама довела, а по дороге ещё и прикрикнула на местных, чтобы не вздумали на меня налетать больше, окаянные, иначе она им выдаст. В спальне меня уже никто не трогал — будто тоже кто-то «разъяснительную работу» провёл. А на следующий день меня Злыдень на улице высмотрел и к себе подозвал. Страшно было, а пошла, куда деваться. А там на крылечке у него стоят обувки — сапожки кирзовые, чуть мне большеватые, но на вырост в самый раз, а самое главное — самодельные «сандалики», в которых резиновая подошва сыромятью перевязана и прошита — таких ни у кого не было, в таких и сейчас бы модницы прошлись, не побрезговали бы. И обе пары — это мне, Злыдень показывает — обувай, дескать. И я свои давно расхлябанные туфли на ремках скинула, сначала сапожки натянула, потом не выдержала и примерила сандалики — и прошлась по двору — вся в синяках после вчерашнего, с клоком выдранных волос — вот тут выхватили и прижгли мне тогда, до сих пор там проплешина, зачёсывать приходится, — зато в обновах и счастливая даже не от них, а не сказать от чего именно…
Тем же вечером, говорят, было собрание жителей в здании школы, где Злыдень что-то разъяснял — очень, говорят, ругался на всех. И с того дня, будто где-то что-то злюческое выключили, перестали хохлы с кацапами лаяться, даже ребятишки прекратили меж собой отношения выяснять, и в детдоме дружнее стало — то ли повзрослели особо осатанелые, то ли сытнее жизнь началась, всё же осень-кормилица… И потом я ещё много раз у Злюки была, не у Злюки, конечно, а у Анны Викторовны, она меня после школы подкармливала — когда молочком, а когда и пирогами, и откуда только находила припасов на лишний рот… А Злыдень — тот мне к зиме портфель сшил из старой полевой сумки и валеночки откуда-то добыл, только подошву к ним поклеил, чтобы надольше хватило…
К следующей весне половину ребятишек по дворам разобрали — местные и поселковые. Оказалось, селяне подкармливали многих ещё с осени, кого и одевали-обували, как меня. Ну и душу-то, видать, рвало, что ребятишки неприкаянные, вот и…
А мне пришло письмо, что мама моя нашлась где-то в Казахстане, так что я упросила директрису отправить меня поближе к тем местам, да не сразу мы нашлись, я уже и не верила, а встретила маму случайно, в общежитии швейной фабрики, куда меня определили ученицей, а она вахтёром там работала. Встретились мы, обнялись, поплакали — досталось маме моей за мужа, папку моего, досталось по полной, с таким клеймом тяжко тогда жилось. Полегче стало уже потом, когда нам разрешили в Воронеж уехать — там мы и остались, назад больше не вертаясь, хотя мне до сих пор говорят, что говор у меня не южный и не расейкий, а сибирский — навсегда, видать, то время въелось в душу.
А однажды мне что-то из детдомовских бумаг понадобилось, написала я в сельсовет, что, мол, не могли бы официально заверить, — и ответ пришёл, да не простой, а в бандероли. А там — нужные бумаги, свёрток, в котором новенькая юбка с оборками и крошечные сандалики из сыромяти, и открытка «С Днём Победы» от Анны Викторовны. Злыдень, она сказала, подписываться не стал — «не розумиет», только буркнул, чтобы себя берегла, а сандалеты — дитю, мол, если такую дурную кацапку кто-то замуж захочет взять…
Ну вот, а весной этой мне бумага пришла из военного архива, а в бумаге той про папку моего — что не предатель он, а разведчик был, помощник самого Николая… забыла, какая-то простая фамилия, из самый распространённых. В общем, он сведения собирал о ставке Гитлера и ещё о чём-то, по специальному заданию стал работать у фашистов, те его и расстреляли, а знали о том всего двое, но оба пропали без вести, после чего почти никаких бумаг и не осталось. И только сейчас нашли реабилитирующие отца бумаги — кто-то не поленился всю эту историю поднять и перелопатить архив…
А еду я сейчас — просто посмотреть на те места, повидаться с детством, не для того уже, конечно, чтобы кому-то доказывать, что не предатель мой папа — да и кто там может остаться, разве что детдомовцы бывшие, кто усыновлён. Возраст-то, конечно, не для путешествий, но пока сил хватает, да и дети со внуками поддержали, устроили мне «турне»: Украина, те места под Харьковом, где я родилась, Казахстан, где с мамой пережили много всякого, теперь вот Сибирь. Потом ещё в Германию звали и в Канаду, но там видно будет, лишь бы не расклеиться совсем, сердечко-то замирает, чем ближе подъезжаю, не девочка уже в юбчонке и сандаликах…
Так не подскажете, в какую сторону посёлок Октябрьский?.. Мне от него недалеко, километр или два, а там деревушка небольшая из одной улицы — вот так хохлы живут, а так — кацапы…
И «калачики» кругом.










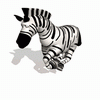


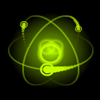










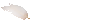
Коллега
Дата: 28 июля 2013 13:16, Комментарий: #1, Статус